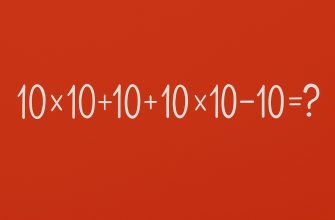Дочитав письмо, Евдокия выпрямилась, поправила на голове косынку и посмотрела вокруг с радостной растерянностью, словно сейчас, в эту минуту, ей надо было собираться и ехать. Потом бережно разгладила коробившийся на сгибах листок и опять склонилась над ним. Ее глаза с усилием разбирали, откладывали в сторону прочитанные слова: «новую квартиру… поживешь… обязательно…» Мысли мелькали, мешались, давили друг друга. Стараясь успокоиться, она поспешно вышла во двор. Вынесла курам, подкопала молодой картошки, прополола огурцы. За работой думалось свободней, легче. «Совсем, нет ли, зимнее-то брать? — думала она. — Какое мое хозяйство? Курей Настя присмотрит, навешу замок, и вот она я. Телеграмму не забыть, и он пишет… Долга дорога, ох долга. Когда же выезжать решать?»
Закончив с огородом, пошла за водой. У колодца ее соседка Настя прилаживала коромысло к огромным, кустарной выделки, цинковым ведрам. «Ну крепка Настюха, такие бочки таскает, и ничего ей не делается», — подумала Евдокия с завистью и одобрением. Настя подняла к ней красное, толстое лицо, поздоровалась и вдруг спросила удивленно:
— Ты что это блестишь, как маслом намазанная? Случилось что?
— Случилось, — смущенно улыбнулась Евдокия. — Сын письмо прислал, к себе зовет.
Настя прислонила коромысло к срубу, шумно вздохнула, приготовилась к разговору.
— На время или насовсем?
— Видно будет. Съезжу, посмотрю…
— Насовсем надо, — твердо сказала Настя. — Сволочь он будет, если бросит такую мать.
— Да ты что, Насть! — испугалась Евдокия. — Он у меня хороший сын. Деньги каждый месяц…
— Деньги деньгами, а я помню, как ты бегала по деревне лет пять, ящики посылочные искала да на почту таскала, все об нем кудахтала — Петя, Петя! Отучился он уж когда, а ты до сих здесь мыкаешься! — говорила Настя, словно угрожая кому-то.
— Куда бы он меня взял? А теперь квартиру новую дали. И кандидата он защитил.
— Да ведь я ничего… Он уважительный был паренек. Кого, говоришь, защитил?
— Кандидата.
— Это как?
— Звание ученое — кандидат.
— Что ж, нападали на него, что ль?
— Я не знаю в точности…
— Вот дела! Что к чему и не разберешь. Ну, пойду я. Если что надо по хозяйству наказать, сделаю. Заходи вечерком.
На закате солнца Евдокия долго сидела во дворе. Она вспомнила, что вон на том дальнем поле пасла она девчонкой гусей, вон к тем четырем липам ходила девкой на гулянье, вот по этой дороге проводила мужа в район, на войну…
Она представила нескончаемо длинные осенние и зимние вечера и ночи, одиночество, едкую тоску, легко вздохнула и улыбнулась. «Не к чему мне здесь прилепиться, — подумала она. — Там у меня все. Внучка растет… Много ли мне? Буду жить да им же помогать». Сбывалась так давно манившая ее мечта.
Через неделю после получения письма Евдокия была уже на вокзале областного центра. Узнав в кассе, что до нужного ей поезда осталось три с лишним часа, она решила, не отходя, стоять у окошка напротив очереди. Чемодан и корзину с гостинцами прижала вплотную к ногам. Последний раз она ездила по железной дороге вскоре после войны, и многосуточная маета на вокзале, чувство безнадежности и страха не уехать сейчас живо вспомнились ей. Утвердившись локтем на краю мраморной подставки, Евдокия немного успокоилась и осмотрелась. «Вот и постою, — думала она. — Не рассыплюсь. Не каждый день…»
Когда Евдокия неожиданно оказалась у кассы в одиночестве, кассирша окликнула ее:
— Мамаша, и долго ты будешь так стоять?
Евдокия испуганно вздрогнула, прижала руки к груди, сунулась к окошку:
— Как же, билетов жду… поезд придет, — ответила она, как бы оправдываясь.
— Я же сказала, билеты за час до прихода. Садись, потом подойдешь, будет билет.
— Как же, очередь пропущу?
— Приходи за час, первой дам. Да ты что, не веришь мне? Или ног не жалко?
Евдокия нашла место напротив кассы, с облегчением села. «Надо же, сколько мимо идет, а заметила, — благодарно думала она. — А сама-то худая, аж синяя».
Отдохнув, она уже с интересом смотрела вокруг. Глубоко вздохнула, ослабила узел платка, откинулась на спинку сиденья, но от строгого голоса, объявлявшего поезда, все-таки поджималась, вздрагивала.
К перрону она шла долго. На лестнице из тоннеля молодой паренек выхватил у нее чемодан, бросил небрежно:
— Ну-ка, помогу!
Евдокия не успела ничего сказать, приотстала, совсем потеряла его из виду, но не позволила себе подумать ничего плохого.
Паренек ждал ее у выхода, кивнул небрежно, смешался с толпой.
Чем ближе подъезжали к Москве, тем меньше Евдокия вспоминала деревню, дом, почти неотрывно думала о сыне, о своем будущей жизни у него. Когда же потянулся мимо запруженный толпой перрон, у Евдокии вдруг сжалось сердце. Пробираясь к выходу, она испуганно думала, что сын не получил телеграммы, не встретит, не найдет ее здесь…
Увидела она сына неожиданно, совсем рядом. Обняла, с облегчением заплакала. Потом шла с ним, держала его за рукав пиджака и чувствовала, как с каждым шагом спадает томившая ее в пути тяжесть. Неожиданно вспомнила, как когда-то давно, маленьким, сын вот так же доверчиво цеплялся за нее в толпе, и улыбнулась сквозь слезы.
В первое свое утро у сына Евдокия проснулась поздно. Внимательно и почему-то волнуясь, осмотрела комнату. Натертый паркет, полировка кресел, книжных шкафов, столика в углу — все скользко блестело, отталкивало взгляд. На стене напротив висела картинка в узкой железной рамке, рисованная черным по белому: снежное поле и корявые, распяленные, как живые, сучья деревьев. Ей стало тревожно. Показалось, что эти дорогие и красивые вещи вокруг так и не примут, не подпустят ее к себе, так и будут отгораживаться холодным блеском.
Невестка удивила ее странно постаревшим, по сравнению со вчерашним, лицом.
— Доброе утро, Евдокия. Ивановна! Как спали? Нет, нет, не спешите вставать, — сказала она, приостанавливаясь рядом.
— Как же, сготовить надо, помочь что, — заторопилась Евдокия. Не могла же она лежать в постели, когда в доме начиналась утренняя жизнь. Не было с ней никогда такого.
Во время завтрака сын сказал, коротко поднимая от тарелки глаза:
— Значит так, мам. Ленка — вся твоя забота. Гулять с ней не надо сегодня. Мы не обедаем дома, а что вам тут есть, Светлана объяснит. Да, с газом обращаться надо тебя научить…
Евдокия слушала внимательно, даже жевать перестала. Хотелось ей, чтобы дела было побольше и она все как следует сумела бы.
С внучкой, двухлетней девочкой, Евдокия поладила быстро. Присмотревшись, заметила в ней что-то неуловимое ихнее, смирновское и обрадовалась тому, что росток их долгой, из рода в род, деревенской жизни, пробился теперь вот здесь, так далеко от корня. Потом ей показалось, что внучка похожа именно на нее, и это обрадовало еще больше и как бы сделало ее переезд сюда совсем уже оправданным и необходимым.
Все порученное невесткой она сделала легко и быстро. Удобства городской квартиры — газ, мусоропровод, горячая вода — были удивительны. Вспоминая, как всю жизнь мучилась с топкой, как таскала из печи, надрывая живот, тяжелые чугуны, она даже почувствовала недоумение и легкую обиду. Как будто все ее труды, вся сноровка, умение были словно бы и не нужны, пропали даром.
Кормя внучку, Евдокия измучилась: та не хотела есть, отворачивалась, кричала. Так ничего и не добившись, она уложила девочку спать, прилегла сама. Когда зыбь дремоты начала подмывать, легко покачивать ее, стукнула входная дверь. Евдокия быстро спустила ноги с дивана, села ровно.
— Ох, да что это вы, Евдокия Ивановна, сидите, как в гостях, — оживленно заговорила вошедшая в комнату невестка. — Лена-то спит?
— Спит, спит. А ела плохо, почти ничего.
— Ее обыкновение. Ох, вы даже не понимаете, как нас выручили. Была приходящая няня, отказалась, в садике даже и не обещают ничего. Просто хоть работу бросай. Спасибо вам.
— Да за что же, дочка? Или чужие мы… — всплеснула Евдокия руками.
В конце ужина в тот же день Евдокия ненадолго осталась с сыном наедине. Он прихлебывал чай, привычно косился на лежащую рядом газету. Она смотрела на него, подперев ладонью щеку. Наконец сын перехватил ее взгляд, улыбнулся:
— Как день прошел, мам? С Ленкой справлялась?
— Она тихая девочка, ест только вот плохо, измучилась кормить. А день ничего прошел. Легко у вас тут, все есть. Вот бабам жизнь! — оживленно сказала Евдокия.
— Да, конечно, удобства.
Сын отодвинул в сторону пустой стакан, еще раз улыбнулся. Помолчали. Испугавшись, что кончится только лишь начавшийся разговор, Евдокия поспешно спросила:
— Что ж, сынок, как вы тут? Ты кем сейчас? И за Свету ведь не знаю я.
— Я по-прежнему в институте, преподавателем, Светлана — в библиотеке. — Сын посмотрел на часы, встал. — Ну, мне поработать надо. Завтра выходной, покажем тебе с утра двор, округу, будешь с Ленкой гулять.
Первые дни Евдокия сильно уставала, хотя по сравнению с деревней дела ей тут было немного. Новизна обстановки держала ее в постоянном напряжении. Она даже спала как будто наготове: на боку, чуть согнув ноги в коленях, аккуратно положив под щеку ладонь. Тяготила ее и квартира со своими кранами, газом, прерывистым стрекотанием холодильника, шипением воды в водопроводных трубах. Все это казалось ей большой и сложной машиной, в которой она забыла что-то повернуть, закрыть, выключить. Трудно было и с прогулками. Евдокия боялась, что внучка упадет, разобьется или столкнут ее стаями носившиеся по двору ребятишки постарше.
Понемногу она все-таки осваивалась. Уже и телевизор днем иногда включала, и в булочную за угол бегала, пока внучка спала, и на балкон выходила подышать, обмирая, смотрела вниз, на квадратное, серое дно двора. Понемногу начала присматриваться и к людям. Заметила, что пожилые женщины и старушки, гуляющие во дворе с детьми, делятся как бы надвое. Одни спокойно сидели на лавочках, были в большинстве в очках, читали и, поглядывая на детей, приказывали им негромкими, но почему-то хорошо слышными, строгими голосами. Другие, и к ним Евдокия сразу же отнесла себя, сидели настороженно, часто вскакивали, ловя детей, кричали на них громко, но как-то испуганно, неразборчиво. Кое-кого из них Евдокия стала постепенно узнавать в лицо, здороваться, а потом и перебрасываться парой слов, если позволяли обстоятельства. Радовало ее, приносило облегчение то, что у людей здесь такие же, в сущности, хлопоты и заботы, что и в деревне, такие же радости и печали. И она думала, что мало-помалу все-таки привыкнет, обживется здесь.
Одно было плохо — невозможность хоть изредка поговорить с кем-нибудь как следует, по душам. Евдокия пыталась сначала сделать это то с невесткой, то с сыном, но ничего не выходило. «Видно, дело мое теперь такое, — убеждала она себя. — Не о чем им со мной толковать, делиться. Надо жить тихо, исполнять свое».
В конце сентября Петру неожиданно удалось устроить дочь в детский сад. Сразу после этого Евдокия почувствовала перемену в отношении невестки к ней. Стала она как-то неприветливей, молчаливей, по хозяйству старалась все делать сама. Исходила от нее теперь какая-то резкая, отталкивающая сила. Когда они находились рядом, Евдокия особенно остро чувствовала свою слабость, сухость, изношенность. Казалось, что своей молодостью, энергией, бьющей в глаза красотой невестка постепенно выталкивает, выдавливает ее из дома, словно вещь, ненужную уже в обиходе.
На сына была плохая надежда, это Евдокия поняла скоро. Видела, что он тоже ходит здесь по краю, все клонит вниз лысеющую голову. Однажды, выбрав момент, спросила:
— Строга хозяйка твоя. Что ж так, сынок?
Он медленно снял очки, и его обнажившиеся глаза показались вдруг Евдокии такими грустными и слабыми, что у нее защемило сердце.
— Так вот, — сказал он негромко. — Не надо внимание обращать. С тобой ведь она ничего как будто?
— Да ничего… Не допускает она меня. Все сама норовит — и по-домашнему, и с Леной. Вроде нарочно как…
— Ну, это не беда, отдыхай. — Сын старательно улыбнулся, заканчивая разговор. — Отдыхай.
И Евдокия сократилась до последнего. Она уже и на домашнюю работу набиваться перестала, все время встречая вежливый отпор невестки, беспощадно говорившей одно и то же:
— Нет, нет, Евдокия Ивановна, я сама. Отдыхайте. Как-то, возвращаясь из магазина, Евдокия осторожно открыла дверь, остановилась в прихожей отдышаться. Из комнаты доносился резкий голос невестки, и Евдокия уже хотела пошуметь, чтобы знали о ее приходе, но, расслышав несколько слов, испуганно замерла:
— Никто ее прогонять не собирается, пусть живет, — говорила невестка. — Но ты посмотри внимательно. Она ведь как неживая стала. Ты занят, я ей чужой человек. Не приживается она у нас. В общем, если она решит уехать — не держи…
Уже на улице Евдокия вспомнила, что продуктовая сумка так и осталась стоять в передней, запнулась, но снова пошла вперед. Встречный поток прохожих все растекался, раздваивался перед ней. Лица были уже припорошены серым, чернели пятнами глазниц, щелями крашеных женских ртов. На перекрестке перед Евдокией, мягко присев, затормозила «Волга» и прошла, пронесла мимо оскал радиатора. Испуганно вздрогнув. Евдокия повернула обратно, с трудом нашла дом. Во дворе долго сидела на лавке, осматривалась, искала что-то глазами. Только звезды были неизменно те же, свои, но светили чахло, словно со дна…
Евдокия решила завтра же поговорить с сыном об отъезде и, если он твердо не скажет остаться у него совсем, уехать. Но ночью передумала, боясь виноватить сына догадкой, что она все слышала. Разговор начала через неделю, за ужином. Сказала как бы невзначай:
— Зажилась я у вас. Скучаю и деревню во сне видеть стала.
— По чем же скучать? — осторожно отозвался сын. — Изба у тебя там одна.
— А что, и по избе, весь век в ней прожила. — Евдокия говорила с веселой бодростью, чувствуя, как все туже натягивается что-то у нее в груди.
— Да, переход резкий и в твои годы трудный, но… — начал сын.
Невестка поспешно перебила его:
— Нет, нет, Евдокия Ивановна, вы и двух месяцев не прожили, поживите немножко еще.
Евдокия посмотрела на сына. Он мазал на хлеб масло, прорывая топкий ломоть.
— Надо ехать, огород у меня… — Евдокия продолжала смотреть на сына. Он молчал, не поднимая глаз. Стыдясь за него и жалея, Евдокия договорила звонко: — Надо ехать. У меня ж там картошки пятнадцать соток да на грядках мелочь. Поделаю дела, тогда посмотрим. Не последний день живем.
— Что ж, если ты решила, — пробормотал сын. Оживившись, добавил, словно оправдываясь: — Закончишь, пиши, приезжай… «
— А то что ж, конечно. Мое дело старое, вольное… — заторопилась Евдокия. Голос ее был по-молодому чист, высок, и, почувствовав это, она замолчала.
Когда в девятом часу Евдокия с сыном вышли на улицу, было еще полутемно.
На вокзал ехали в такси. Евдокия все время искала, что бы такое сказать, спросить у сына, отстранить снова и снова виснущее над ними молчание.
Приехали за полчаса до отхода поезда. Сын сразу же побежал покупать что-то на дорогу, и она поняла, что ему тяжело, неловко быть с ней. И только в последнюю минуту, когда он взял ее за плечи и сказал глухо: «Ну, мать…» — что-то дрогнуло у него в лице. Только тогда, впервые за прожитое здесь время, Евдокия увидела его так ясно, как видела только в снах. Увидела толстую, пористую кожу щек, вздувшиеся на залысинах вены, желтизну глазных яблок. И жалость к нему за то, что уже так явственно старит его жизнь, что он слаб и ему трудно жить в этом огромном городе, сдавила ей горло. Не зная, как сказать ему, что не судит, а жалеет и любит его, Евдокия бормотала торопливо, словно заговаривала боль:
— Ничего, ничего, сынок… Все будет… будьте здоровые все. А я, глядишь, и опять приеду, нетрудно, чай…
Выехали из Москвы, и за окном потянулись хвойные леса. Евдокия неотрывно смотрела на дробившийся перед глазами встречный поток шпал, на стоявшие вдоль полотна мокрые стога с косо торчащими из верхушек жердями, на будку путевого обходчика и дым из ее трубы, срезаемый у основания дождем и ветром, па четкие квадраты полей, окаймленных лесами, на плавно плывущие назад крыши деревень. Стоило же отвести или закрыть глаза, как в голове возникала мучительная теснота, и она вновь поспешно приникала к окну, и словно серой прохладной повязкой ложилась ей на лоб осенняя печаль и красота. И все распахивалась перед идущим поездом даль, широко раскрывала поля и перелески, принимала в себя всех идущих и едущих, не отталкивая никого.